Лед, зэки, фронтовики
Памятные сцены послевоенной сибирской жизни...
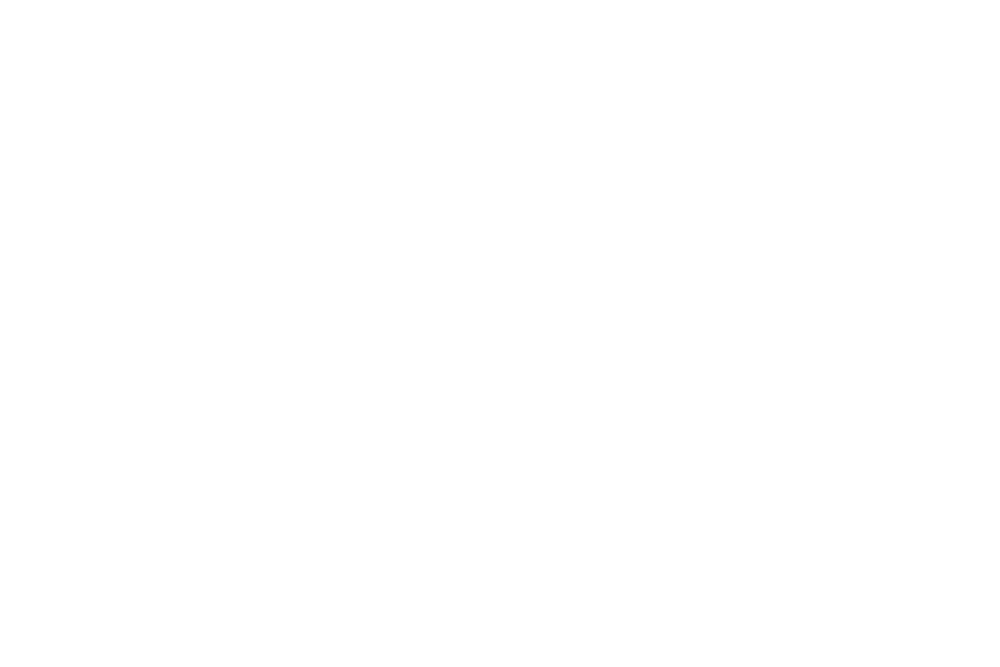
Иллюстрация / shutterstock.com
Весна – это когда на крыше сарая можно на солнце валяться и зайчики пускать. Кто в Сибири не жил – не знает радости от первого тепла, оно вначале только где-нибудь в затишке ловится. Непросто найти место и солнечное, и безветренное. А первые листочки зеленые? Даже ребенком восторгался: как, откуда, вдруг после стольких месяцев бесцветья – свежая зелень.
Весной групповое развлечение лужи каналами соединять, чтобы всю воду талую в одной большой яме собрать – благо такая была. Во дворе второй год (а мне казалось – всегда) шла стройка, проводили воду в наши дома. Отец не хотел в благоустроенный дом переезжать «без коллектива» – сотрудников, живших в наших деревянных, с удобствами на улице, домах. Хотя в отличие от коллектива у нас-то возможность, как мама говорила, «жить по-человечески» была. Стройка закончилась в то лето, когда мы уехали из Омска.
Случилось событие, тогда как будто катастрофическое, но оказавшееся благостным для всей нашей семьи. Отца «сняли», но первые десять лет моей жизни я успел провести во льдах. Сибирская инициация – это когда первый раз, в мороз, не на горшок дома, а на улицу нужно идти. Ты стал взрослым, если в эту зиму мать не боится тебя от горшка оторвать. Дом хотя и деревянный, без удобств, но многоквартирный. Станешь старше – поручат помои выносить. Громадный ледяной диск во дворе – это они. Задача – взобраться на две скользкие ступени с тяжеленным ведром. Этот «торт» потом, весной расколют на куски и вывезут. На лошадях – их на улицах, особенно зимой еще много было. За сани можно крюком зацепиться и катиться на коньках-снегурочках. Но это развлечение для старших – нужно цепляться так, чтоб извозчик не заметил, а то, не оборачиваясь, кнутом огреет. Куда приятней другая домашняя работа – ходить в сарай за дровами или мясом. Туша висит на крюке, и нужно с нее срезать мяса, это, конечно, старшему брату поручено, а ты пока можешь брусники из бочки набрать, она тоже мороженая – металлической тарелкой отбиваешь куски и в ведро. Бывает поздно вечером отец приедет из командировки – радость всеобщая. В коридоре его доха еще лежит под вешалкой – можно в ней поваляться. Доха громадная, похожа на убитого медведя. Хотя, конечно, я убитого медведя и не видел еще, но так представлял.
Отец любил нас потискать, и даже, когда мне уже 16–17 было и я тренировался много и, может, даже уже был его сильнее, он со мной, как приходил, в шутку всегда боролся. Скорее обнимался, но сильно, по-игровому. Умер отец в 1968-м, всего 50 ему было. Теперь понимаю, насколько рано. Внезапно и быстро – тромб. Хочется как-то все правильно вспомнить про него, не знаю, получится ли когда-нибудь. Как он мог быть добрым, мягким дома при той сволочной обстановке на работе – для меня загадка. По ночам слышно было, как он по телефону с Москвой говорит и со своими предприятиями. И ясно было, что там все очень напряженно. Приходил с работы в семь – ужин, сон 15–20 минут, и опять к восьми на работу и возвращался уже за полночь, когда в Москве уже под утро высокие чиновники спать ложились. Страна все после войны успокоиться не могла – бессонницей мучилась. Да и вождь всех народов приучил, сам-то спал когда хотел – кто его потревожит? – а для остальных: «Вы уже спите, а товарищ Мао еще работает» или «уже работает».
Отец любил нас потискать, и даже, когда мне уже 16–17 было и я тренировался много и, может, даже уже был его сильнее, он со мной, как приходил, в шутку всегда боролся. Скорее обнимался, но сильно, по-игровому. Умер отец в 1968-м, всего 50 ему было. Теперь понимаю, насколько рано. Внезапно и быстро – тромб. Хочется как-то все правильно вспомнить про него, не знаю, получится ли когда-нибудь. Как он мог быть добрым, мягким дома при той сволочной обстановке на работе – для меня загадка. По ночам слышно было, как он по телефону с Москвой говорит и со своими предприятиями. И ясно было, что там все очень напряженно. Приходил с работы в семь – ужин, сон 15–20 минут, и опять к восьми на работу и возвращался уже за полночь, когда в Москве уже под утро высокие чиновники спать ложились. Страна все после войны успокоиться не могла – бессонницей мучилась. Да и вождь всех народов приучил, сам-то спал когда хотел – кто его потревожит? – а для остальных: «Вы уже спите, а товарищ Мао еще работает» или «уже работает».
В баню ходили раза три в месяц. Отец вдруг говорит: «Сегодня в баню пойдем». Обычно в воскресенье. Не хочется, но зато с отцом можно пройтись, он дома редко бывает, по командировкам все – область громадная, везде леспромхозы, а дороги плохие, – вот и уезжал часто надолго.
Баня – тяжелое испытание, толпа голых громадных дядек, все в наколках, теперь понимаю: много бывших зэков. В тюрьме побывать совсем не стыдно, а для большой части народа, наоборот, стыдно не сидеть ни разу за жизнь – что за мужик: ни разу волю не попробовал, а воля – это, ясное дело, нарушение законов. В большинстве столь абсурдно-жестоких, что человеческих за ними и не видно.
Да и поговорить свободно – страх. Доносов по привычке боялись. Помню, когда я впервые услышал слово «секс» с каким-то пояснением, я вспомнил часто употребляемое в детстве слово «сексот». Я как-то пытался маме объяснить, почему я с Вовкой Исерсом подрался: «Он сексот, сексотина», то есть ябеда. И мне попало здорово, но не за драку – мама сказала, чтобы я впредь этого слова не произносил. Поэтому потом, когда слово «секс» появилось, оно у меня куда-то на близкую, опасную строчку записалось. И только много-много позже я догадался, что Вовку я СЕКретным СОТрудником обзывал, а не чем-то вроде хрена. Но значит, мы, дети, понимали, кого надо сексотом называть, от родителей, конечно, знали – потому мать и боялась.
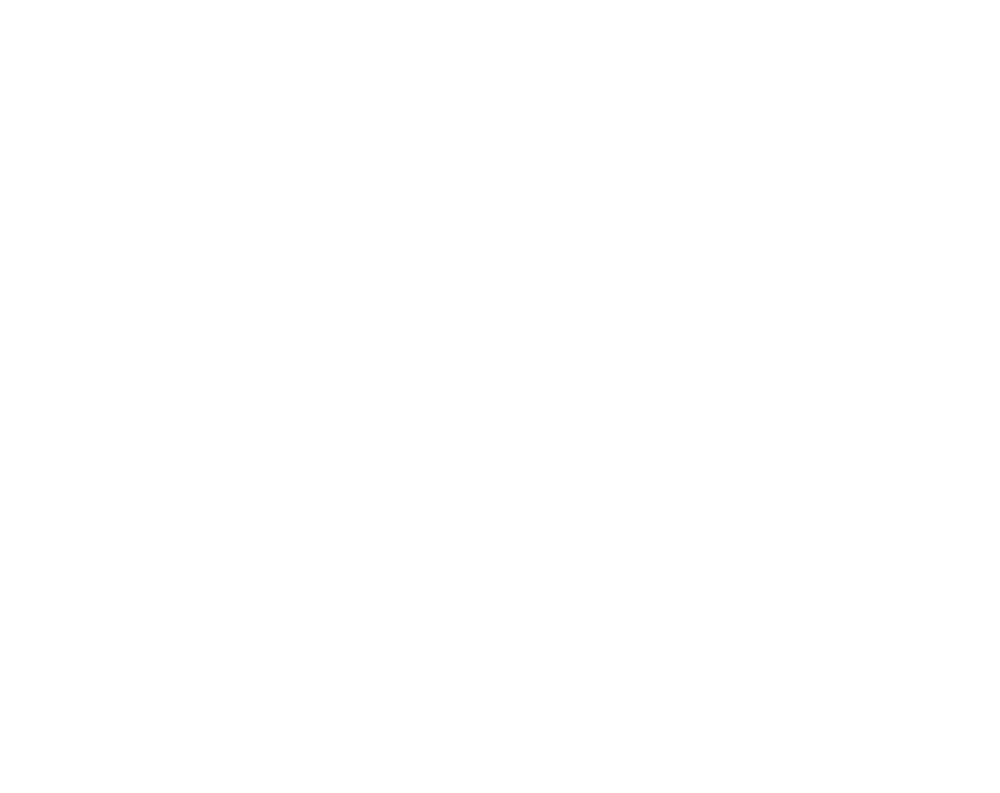
Это только в мужской бане страшно. А в женской – загляденье.
Виталий Тихов. В русской бане. 1916. Частная коллекция
Виталий Тихов. В русской бане. 1916. Частная коллекция
В бане душно и страшно: легко ошпариться – мужики кругом с шайками кипятка ходят. Многие войной искореженные – в одежде не так все это заметно, а тут или «синий», или со шрамом каким-нибудь. Около кранов с холодной и горячей водой очередь – стоять в ней тоже испытание. Но все это окупается с лихвой, когда тебя отец моет – тут всю его любовь и чувствуешь. Вымоет, засмеется, шлепнет и говорит: «Ну теперь вы мне спину потрите», – мы уж с братом стараемся… В бане как будто другой мир, другие люди, только что видел его в одежде – один был, а тут голый – совсем другой, все некрасиво, страшно. А парилка – это ад, и там охают, ухают и вениками в темноте бьют друг друга. Везде вода мыльная стекает в решетчатые дыры, кажется, и тебя туда смоют сейчас, пол скользкий, неровный, упасть легко – скорей на лавку свою залезть и отца ждать. И его не сразу узнаешь, только когда уж рядом совсем с шайкой чистой воды пришел и неловко моет тебя – левая рука в кисти не гнется после ранения. Я потом всю жизнь, когда своих мыл, вспоминал это чувство в бане, в руках отца…
Ну вот вышли и морс пьем. А мужики рядом по чекушке достают… Где все эти люди? Неужели умерли? Отдых – это зимой или у нас гости, или наши родители в гости, летом – пикник на Иртыше. У отца как управляющего трестом кроме персональной машины «Победа» был служебный катер. Вот на нем и уезжали, как бы сейчас сказали, «за город». За грибами, ягодами, и набирали, бывало, много. Помню, как их компания собиралась у нас дома – танцевали «О, Рио-Рита, такого парня ты где только поищи-ка…». Танцевали под пластинки, но иногда поймают хорошую музыку по радио (оно хрипит, пропадает, но для танца слышимости хватает – тогда радио свободой было, как сейчас интернет). Готовилась мать к этим вечеринкам основательно, помню, однажды приходим из бани с отцом, вечером гости должны прийти, а мать встречает нас в слезах. «У меня, – говорит, – желчь разлилась». Даже мне стало понятно, что беда какая-то медицинская с мамой случилась. Оказалось, при разделке стерляди желчный пузырь лопнул, и ее вкус мог испортиться непоправимо. Cлезы были у нее настоящие.
Ну вот вышли и морс пьем. А мужики рядом по чекушке достают… Где все эти люди? Неужели умерли? Отдых – это зимой или у нас гости, или наши родители в гости, летом – пикник на Иртыше. У отца как управляющего трестом кроме персональной машины «Победа» был служебный катер. Вот на нем и уезжали, как бы сейчас сказали, «за город». За грибами, ягодами, и набирали, бывало, много. Помню, как их компания собиралась у нас дома – танцевали «О, Рио-Рита, такого парня ты где только поищи-ка…». Танцевали под пластинки, но иногда поймают хорошую музыку по радио (оно хрипит, пропадает, но для танца слышимости хватает – тогда радио свободой было, как сейчас интернет). Готовилась мать к этим вечеринкам основательно, помню, однажды приходим из бани с отцом, вечером гости должны прийти, а мать встречает нас в слезах. «У меня, – говорит, – желчь разлилась». Даже мне стало понятно, что беда какая-то медицинская с мамой случилась. Оказалось, при разделке стерляди желчный пузырь лопнул, и ее вкус мог испортиться непоправимо. Cлезы были у нее настоящие.
Жизнь иронична. В 1957 году отца с работы сняли, и местный феодал – первый секретарь Омского обкома партии К-й хотел, видимо, и посадить. Мама рассказывала свою версию – за что тот мстил отцу. Вполне правдоподобную по тем временам. Сейчас, может, и фантастично звучит, но дело было так. Однажды отец приходит с работы встревоженный и говорит: «Сегодня промашку допустил, может быть, и сильную». Опаздывал он на какое-то заседание в обкоме – по лестнице бежал вверх (ему всего 32 было) и на одном из маршей обогнал Самого. А К-й тот, еще сталинский кадр, инвалидом с детства был, передвигался медленно, всегда держался за перила. Лестница в обкоме широкая – и проскочил его отец, не заметил. Но «Тамерлан» заметил и ждал. Месть – гнев, настоянный на терпении.
За полгода до этого отцу орден вручили, а весной 57-го Иртыш как-то необычно сильно разлился и смыл леса больше обычного из заготовленного для сплава. Вредительство. Но вначале партийная власть должна разобраться: нельзя по их правилам партийного сажать, нужно вначале «из рядов» исключить. Тогда только в Москве хрущевская оттепель началась, а «на местах» еще почти везде «мороз колючий, как проволока». Партия может меняться, а «люди стаи» – все вместе всегда готовы делать то, что скажет партия – храмы взрывать или молиться.... Как бы то ни было, в одно, как оказалось, счастливое для нас утро состоялось заседание бюро обкома, где слушалось персональное дело отца – обычный первый шаг к большим неприятностям – о потере леса при весеннем паводке. Характер обсуждения был такой, что отец с заседания сразу в аэропорт поехал и улетел в Москву. Не стал ждать известного всем тогда продолжения. В Москве министр – власть «светская» – спрятал его на Кубань, в Горячий Ключ, на маленькую должность – директором леспромхоза. А через два года оттепель добралась до Сибири – феодала сменили, а отца восстановили полностью, и мы смогли переехать в «столицу» – Краснодар.
Когда из Омска уезжали, горько я плакал, помнится. А теперь понимаю, какое это счастье было, что переехали на Кубань. Здесь жизнь совсем другая. Сибирь – кочегарка, а тут – верхняя палуба. Казалось, что все улучшается непрерывно... Надо сказать, десятилетка 1955-1965 была феноменальная, не только из-за Гагарина. Тогда, кажется, все началось: гражданское строительство (люди переселялись в квартиры из бараков, подвалов), общественный транспорт, гражданская авиация в полный рост, первые компьютеры, первые синтетические ткани и материалы, даже про кибернетику заговорили... Приехали в Горячий Ключ в августе; от вокзала в Краснодаре до дома 60 километров – я, наверное, заснул, не помню, как доехали. Разбудили глухие удары в потолок – груши на крышу падали от утреннего ветерка. Сейчас кажется, что я до этого все фрукты, кроме яблок, только сухими знал. Потому их и называют «сухофрукты». Только алма-атинский апорт – каждое яблоко завернуто в бумагу, – сочный сам по себе (а не в компоте), доходил до Омска живым. А тут – ешь не хочу. Но это уже другая история.
Когда из Омска уезжали, горько я плакал, помнится. А теперь понимаю, какое это счастье было, что переехали на Кубань. Здесь жизнь совсем другая. Сибирь – кочегарка, а тут – верхняя палуба. Казалось, что все улучшается непрерывно... Надо сказать, десятилетка 1955-1965 была феноменальная, не только из-за Гагарина. Тогда, кажется, все началось: гражданское строительство (люди переселялись в квартиры из бараков, подвалов), общественный транспорт, гражданская авиация в полный рост, первые компьютеры, первые синтетические ткани и материалы, даже про кибернетику заговорили... Приехали в Горячий Ключ в августе; от вокзала в Краснодаре до дома 60 километров – я, наверное, заснул, не помню, как доехали. Разбудили глухие удары в потолок – груши на крышу падали от утреннего ветерка. Сейчас кажется, что я до этого все фрукты, кроме яблок, только сухими знал. Потому их и называют «сухофрукты». Только алма-атинский апорт – каждое яблоко завернуто в бумагу, – сочный сам по себе (а не в компоте), доходил до Омска живым. А тут – ешь не хочу. Но это уже другая история.
М.И. Лазарев, основатель InternetUrok.ru
Независимая газета, 27 января 2021
Независимая газета, 27 января 2021
Другие материалы



